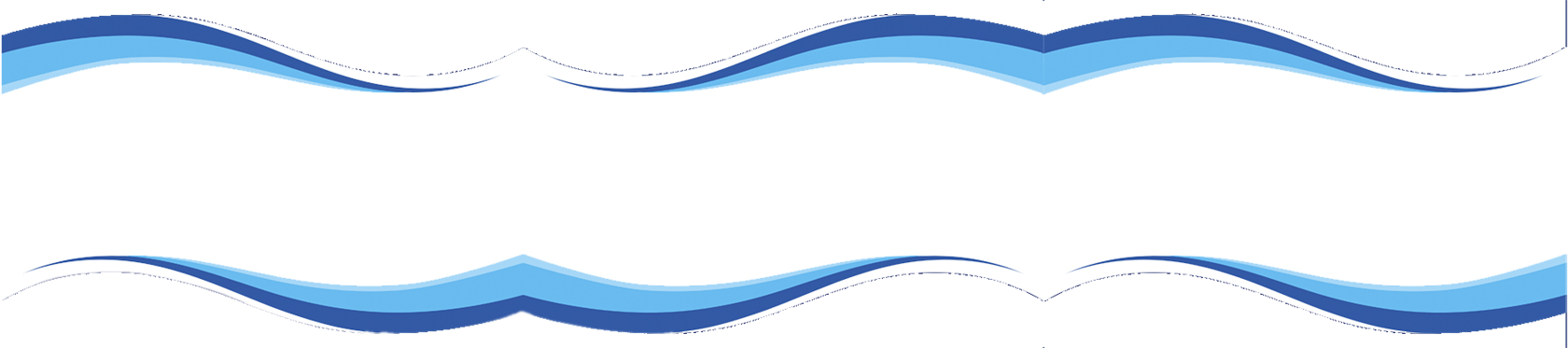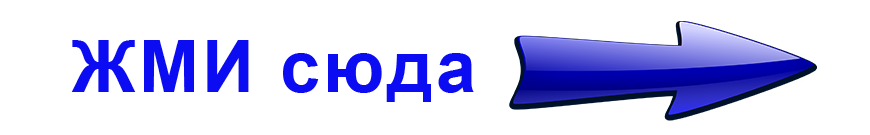Черная тетрадь
«Здравствуй, Коля с приветом, Лёня»
Как-то учил я отрывок из «Тимура и его команды». Гайдара изучали в школе. Задали пересказ близко к тексту. А помнишь, может быть, там мальчик был, Сима Симаков. И вот повторял я заданную главу вслух, а папа вдруг сказал:
— Ненавижу эту фамилию!
— Почему? — удивился я.
— А так, — папин тон стал нарочито беззаботным, он махнул рукой и ушел.
А я задумался. Ну конечно. Как я мог забыть. Я фамилию эту слышу каждый день. Я просто никак не связал фамилию из книжки, с фамилией которую постоянно слышу от папы.
Ты помнишь, как я рассказывал про сад? Точнее, про воспитательные беседы, которые вел со мной папа, когда мы собирались домой? Ну как Дашка туфли просила, как Андрюха в записной книжке написал про родителей и друзей. Да, и почему в армии хлеб не едят, он тоже там рассказывал. Еще рядовым Недопетюлькиным меня обзывал.
Так вот, на этом же самом месте, при тех же обстоятельствах, то есть при сборах «до дому - до хаты» была еще одна беседа.
Я тогда не смог ее описать. Помнишь, нес я какую-то фигню, про душу поднявшуюся в полный рост, и сломавшуюся?
Я сейчас сделаю это. Сделаю.
— Получаю я письмо. «Здравствуй, Коля, с приветом, Лёня. Твоя жена теперь будет моей женой».
Я не помню, что там дальше дословно. Про какого-то Леню по фамилии Симаков. Да и как мог я это запомнить, если не понял из папиного рассказа ничего. Только ужас почувствовал непонятный какой-то. Вот ничего не понятно, а почему-то страшно.
Видимо, папа увидел, что я ничего не понимаю. Хотя нет. Не мог он ничего увидеть. Никогда не интересовало его, понял я что-то или нет. Так что объяснять взялся, потому что с самого начала так запланировал.
— Видишь, какая мама у нас нехорошая.
Я впал в полное недоумение. А мама тут при чем? Письмо это какой-то Лёня написал. При чем тут мама? Ну то есть мама, по мнению этого Лёни должна стать его женой. Это понятно. Но почему она нехорошая? А тут папа и совсем добил мой бедный мозг.
— Если бы я её не простил, то и тебя бы не было.
Ну это вообще ни в какие ворота не лезло. Как это меня бы не было? Купили бы меня в роддоме другие люди… А! Вот откуда ужас! Рос бы я в другой семье! А я не хочу в другую семью. У меня папа и мама — самые лучшие в мире! Так что страшно конечно, но виноват во всем таинственный Симаков. При чем тут мама?
Вот примерно в таком состоянии сели мы на папин велосипед и покатили.
Интересно, сколько раз за жизнь я слышал эту фамилию. А эту фразу? «Здравствуй, Коля, с приветом, Лёня». Не сосчитать.
Папа рассказывал это на каждой пьянке. Всем знакомым и полузнакомым. Рассказывал специально так, чтоб мама слышала. А может и не специально. Может плевать ему было, слышит она или нет. Оказывается, мама после этого письма несколько месяцев ему не писала. А только потом прислала телеграмму: «Поздравляю дочерью».
— Значит, дочь моя, — объяснял папа собеседнику.
Ну этой фразы, этой логики я конечно тоже не понимал.
А папа все вдалбливал:
— А потом письмо написала: «Никому не верь, эти письма пишут нехорошие люди». Так если так, то почему не писала два месяца?
Дашка. Это потом, она уже большая была. То есть взрослая. Услышав этот рассказ, сказала папе так:
— Я бы никогда тебе не поверила. Но ты каждый раз повторяешь все в точности так же….
А еще сказала:
— Я помню, сижу за столом, а ты посмотришь на меня и говоришь: «Ууу! Симаковщина!». Я тебя понимаю, но мне-то каково! Я ведь ни в чем не виновата.
Дашка провела целое расследование. У мамы тоже стала допытываться, что да как.
— Да, — сказала мама, — приставал один. Я ему (то есть отцу) так и написала. Честная была. А он мне ответ прислал: «Письма не пиши, буду подтирать жопу». Я и не писала. Гордая была, дура.
— А что он про письмо от Лёни рассказывает? И про Симакова?
Мама только рукой махнула.
— Да придумал всё!
Знаешь, вот и почти все, что я могу рассказать. Странно ей богу. Я всю жизнь прожил с этим Симаковым словно в одной семье. Его дух незримо витал в воздухе каждый день. Я ненавидел Симакова, потом ненавидел отца за бесконечно повторяющийся буква в букву рассказ. А вот и все рассказал. В трех строчках.
Но я сделал это. И никто никогда не узнает, как мне было невыносимо трудно. Без этих трех строчек, дальше рассказывать было нельзя. А вот сейчас уже можно.
— Становись, сука, к стенке, я тебя расстреливать буду!
Ружье — оружие страшное. Это мне мама объяснила. Лежала она как то на кровати, может быть, читала что-то. Рецепт какой-нибудь в «работнице» изучала, наверное. Книжек-то она не читала. Я рядом возился.
И тут дверь со скрипом чуть приоткрылась. Ну, или без скрипа. Я не помню, скрипела она или нет, но во всех книжках двери со скрипом открываются, значит и мне надо, чтоб со скрипом. Со зловещим.
С леденящим душу скрипом приоткрылась дверь, и в узенькую щелку просунулся ружейный ствол. Вот так.
Я в панике начал накрывать маму одеялом. А мама рассмеялась:
— Да ты что, пуля одеяло пробьет.
Я растерялся.
— Как?
— Конечно, пробьет. Оно даже дверь пробьет!
Я начал оглядывать комнату. Чем еже маму прикрыть. Заслонить. Больше ничего не было. Только одеяло. И даже если бы я смог закрыть дверь, и это бы маму не спасло.
Такой ужас я испытывал до того только раз. Когда папа тонул.
Он барахтался, уходил под воду с головой. Я кинулся вытаскивать его. Но он оказался таким тяжелым. Я тащил его, надрывался, звал на помощь. А все вокруг смеялись.
Потом папа встал, и оказалось, что вода ему по колено. Я очень обрадовался тогда. Значит, все же выплыл, теперь не утонет.
А мама смеялась. Я удивился сильно. Восхитился. Какая же у меня бесстрашная мама! На нее ружье направлено, а она смеется!
А потом, оказалось, что это не бандиты и не разбойники. Это просто папа ружье в щелку вставил. Но никого не убил. Потому что папа у меня добрый.
Вот с того момента я запомнил, какое страшное это оружие — папино ружье.
— Становись, сука, к стенке, я тебя расстреливать буду!
Тут уже было не до смеха. Папа был пьян. Он уже не был добрым. Да и мама уже не смеялась.
Она была в одной комбинации и стояла у стены. Ты простишь, если я не скажу, почему она стояла у стены? Я не помню. Я не думаю что, услышав «становись к стенке!», покорно пошла и встала. Наверное, была какая-то борьба, и папа ее к стенке отшвырнул.
А теперь он держал в руках ружье, и целился в маму. Я кинулся, встал перед мамой, и раскинул руки. Я понимал с ужасом, что закрываю маме только ноги, а все остальное остается под прицелом. Но с этим ничего не мог сделать. Если бы я побежал за табуреткой, чтобы забраться на нее, и заслонить маму больше, папа мог выстрелить, пока я бегаю.
Нет, это не было как в кино: «Сначала выстрели в меня, в своего любимого сына!». Нет. Я знал, что он выстрелит. Не важно, стою я тут или нет. Я просто старазся закрыть маму.
А папа и не заметил меня. Он стоял и целился. Впрочем, мама тоже меня не заметила. Может быть от страха.
А папа вдруг сблевнул, качнулся вперед и ружье выстрелило. Пуле попала мне под левый сосок. Да в сердце она попала, что там говорить. Стало очень больно. Просто нестерпимо больно.
Вот что странно. Ведь я вырос потом.
Страшное оружие, насквозь прошибающее дверь, оказалось старенькой воздушкой. Ну такой, из которых в тире стреляют. И никакую дверь она бы ни за что не прострелила. И мамина жизнь была в безопасности. Вот так смешно.
Конечно, глаз выбить папа маме мог. Но это если бы попал.
Только в тот момент, я этого не знал. А знала ли это мама? Обычно женщины не разбираются в оружии. Про то мы никогда не узнаем. Как и не узнаем, помнил ли папа, или в пьяном угаре вообразил, что в руках у него карающий меч.
допрос
Все те же пять лет. Папа усаживает меня на колени. Папа ласков. Невероятно. Это невероятно само по себе, но к тому же папа невероятно ласков. Приторно ласков, ласков до тошноты.— Вот мы с матерью разведемся, ты с кем будешь жить? — Интересуется он.
Трудно передать. Меня разрывают как минимум два чувства. Конечно ужас! Ужас охватывающий меня каждый раз, когда я вынужден говорить с отцом. Страх перед тем, что не так что скажу, не так повернусь, не так посмотрю. Ласковый папа — это уже что-то паранормальное, и в любой момент он может превратиться в папу обычного, топчущего меня ногами, или разбивающего об мою голову трехлитровую банку с огурцами.
— С тобой, — лепечу я.
А одновременно с ужасом меня охватывает ликование. Наконец то! Слава богу, они разведутся. Конечно, я не буду жить с этим уродом! С этим гадом с этой сволочью. Конечно я буду жить с мамой. Ой, какое это будет счастье! Жить с мамой! С мамой и без этого вот. Какая жизнь тогда начнется! Я буду маму любить, Я буду о маме заботиться! Я и сейчас люблю маму, И сейчас о ней забочусь. Но теперь, теперь мне никто не будет мешать заботиться о ней.
— Не врешь? — интересуется папа. Всё такой же ласковый.
— Нет. — лепечу я, с замиранием сердца. Я, конечно, вру. Я понимаю, что вру. Я знаю, что врать нехорошо. Но, я не могу ничего поделать. Я никогда не посмею сказать правду.
— Точно не врешь? — настойчиво уточнят папа.
— Нет. — шепчу я сдерживая все эмоции.
— А если окажется, что врешь?
Ну что ж. Окажется. Конечно, окажется, конечно вру. И тут страх пропадает. Мысль только одна. Скорей бы они уже развелись Скорей бы! А тогда пусть убивает. Да, пусть он потом меня убьет, за то, что я ему сейчас соврал. Зато они разведутся, и мама не будет больше так страдать.
— Точно со мной будешь жить, не с матерью?
О, это могло длиться бесконечно.
Конечно, я не понимал очень многого в этих беседах. Не понимал самой комичности ситуации. Ведь случись развод на самом деле, меня никто бы и не спросил. А папе меня не только никто бы не отдал, да папа просто и не взял бы никого из детей. Это все становится понятным, стоит слегка подрасти. Но самое мерзкое во всей этой ситуации! Папа и не думал о разводе!!! Никогда он о нем не думал.
А зачем тогда? Зачем?
Видимо, все эти бесконечные беседы вновь преследовали цель только папе ясную. Какую? Скажи мне какую?